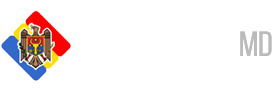Многие люди старшего и среднего поколения в Республике Молдова ещё, вероятно, хорошо помнят имя советского военного лётчика Михаила Девятаева, который с группой боевых товарищей — Тимофеем Сердюковым, Николаем Урбановичем, Петром Кутергиным, Михаилом Емец, Иваном Олейником, Фёдором Адамовым, Владимиром Немченко, Владимиром Соколовым и Иваном Кривоноговым, ставших узниками фашистского концлагеря, бежал из плена, угнав с ракетной базы Пенемюнде на острове Узедом в Балтийском море германский бомбардировщик He-111 с секретной аппаратурой для запуска самолётов-снарядов Фау-1. 8 февраля 1945 года, в 14 часов 40 минут, он приземился в расположении 311-й стрелковой дивизии советской 61-й Армии генерала Белова.
В сентябре 1945 года Михаила Девятаева (находившегося уже в советском лагере для бывших военнопленных), вызвал на остров Узедом «полковник Сергеев» (будущий Главный конструктор советских ракет Сергей Королев). Они вместе изучили все известные Михаилу Девятаеву места стартовых площадок ракет Фау-2, а также взорванные и затопленные цеха по производству немецких ракетных установок.
Лишь спустя двенадцать лет подвиг пилота Девятаева получил достойную оценку. Случилось это после вмешательства Сергея Королева и трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1957 года Девятаеву Михаилу Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
В Книге рекордов Гиннесса о Михаиле Девятаеве написано: «Он единственный в мире летчик, которого за один и тот же подвиг сначала посадили в тюрьму, а затем удостоили высшей государственной награды».
Легендой он стал еще при жизни. Описанию своего фронтового пути и страшным дням испытаний, прожитым в концлагерях, посвящены его книги «Полет к солнцу» и «Побег из ада». В России о Михаиле Девятаеве был снят документальный фильм «Побег с острова смерти», а в Германии ему и девяти его товарищам поставлен памятник в знак признания особого значения их побега с секретной ракетной базы нацистов в Пенемюнде.
В первые послевоенные годы о таких случаях в Советском Союзе вообще не принято было говорить, и только в «хрущевскую оттепель» информация о чудесных спасениях из плена стала постепенно просачиваться в СМИ, так как в отношении бывших советских военнопленных, освобожденных из фашистских застенков и позднее направленных в советские фильтрационные лагеря, начался процесс реабилитации.
Долгое время считалось, что это единственный в своем роде побег из плена на захваченном у врага боевом самолете. Однако в истории Великой Отечественной войны было, как минимум, десять аналогичных случаев удачного освобождения из плена, причём этот был только седьмым по счету.
Сегодня уже известно, что на немецких самолётах различного типа из плена бежали также другие советские пилоты — Александр Костров, Николай Лошаков, Владимир Чипков, а военные лётчики Владимир Москалец, Пантелеймон Чкуасели и Арам Карапетян 3-го июля 1944 года даже угнали стразу три немецких самолёта.
В 2005 году из сообщений ИТАР-ТАСС стало известно, что во время войны побег из плена на немецком самолете совершил и летчик Владимир Иванович Муратов. Его уникальный побег занимает особое место среди подобных героических историй. Лётчик – истребитель Владимир Муратов не только сам бежал из плена и пригнал к своим немецкий самолёт, но и привёз с собой другого советского лётчика — товарища по несчастью, а также румынского капрала — авиамеханика, служившего на аэродроме германских Люфтваффе и оказавшего ему помощь в подготовке этого побега.
15 мая 1944 года старший лётчик 2-й эскадрильи 427-го истребительного краснознамённого авиаполка лейтенант Владимир Иванович Муратов, в активе которого были уже три сбитых немецких Мессершмитта и один Фокке-Вульф, получил приказ произвести разведку расположения аэродрома противника недалеко от румынского города Бакэу. На обратном пути вражеский зенитный снаряд попал в его самолёт.
Владимиру Муратову удалось посадить свой подбитый самолёт «на брюхо» в районе станции Роман. При этом он серьёзно поранил лицо о приборный щиток, а когда отстреливался из пистолета от окруживших самолет румынских солдат, был ранен в плечо и ногу. Попав в плен, он полтора месяца пролежал в немецком госпитале для советских военнопленных, после чего попал в офицерский лагерь.
Однажды немецкий офицер — начальник лагеря, построив советских военнопленных, задал им вопрос, кто из них был военным лётчиком? Двое военнопленных – Владимир Муратов и Иван Клевцов — вышли из строя. Они слышали, что немцы формируют лётные части из власовцев, а потому решили под видом предателей, готовых воевать за Германию, получить самолёты и затем перелететь на них к своим.
Однако начальник лагеря отправил их на расчистку близлежащего военного аэродрома, который сильно пострадал накануне в результате налёта советских бомбардировщиков, так как считал, что с этой работой могут лучше справиться люди, имевшие непосредственное отношение к авиации. По иронии судьбы, Владимир Муратов попал на тот самый немецкий аэродром, в районе которого был недавно сбит. Это был аэродром штурмовой авиации, где ему вместе с другими советскими военнопленными немцы приказали строить капониры – защитные сооружения для самолетов.
Работая на аэродроме, Владимир Муратов стал очевидцем того, как чем-то недовольный немецкий офицер – лётчик грязно обругал и ударил кулаком по лицу румынского механика в чине капрала, облуживающего его самолёт.
Видя, как оскорбленный таким бесчеловечным отношением к себе румынский капрал Пётр Бодэуц отошёл в сторону и зарыдал, Владимир Муратов, улучив подходящий момент, попытался с ним по-дружески заговорить. При этом выяснилось, что румынский капрал неплохо говорит по-русски, так как ранее долгое время проживал в Бессарабии, ненавидит немецких фашистов и хотел бы перейти на сторону Красной Армии.
Когда Владимир Муратов предложил румынскому авиамеханику перестать служить немцам, которые унижают его человеческое достоинство, и улететь вместе с ним с этого аэродрома на советскую территорию, Пётр Бодуэц охотно согласился. Он не только нашёл на аэродроме и подготовил подходящий самолёт для побега — лёгкий штабной Fieseler Fi 156 Storch (Аист), но и достал два парашюта.
Подготовив самолет к взлету 8-го августа 1944 года, румынский авиамеханик Пётр Бодуэц дал знак находившемуся неподалеку Владимиру Муратову, и тот мгновенно очутился в кабине. К самолету подбежал и Иван Клевцов, который также забрался в кабину. Сбит он был всего за 11 дней до этого, и в 131-м гвардейском штурмовом авиаполку, где он служил, его ещё даже не успели снять с довольствия. Немцы не сразу поняли, что их самолёт угоняют, а когда сообразили, уже ничего предпринять не смогли.
Три месяца Владимир Муратов не был в родном полку, но, к счастью, за это время его авиационный полк никуда не перебазировался, и он посадил угнанный немецкий самолёт на хорошо знакомом ему аэродроме. Поручительство командира полка подполковника Обозенко в Особом отделе помогло лётчику Владимиру Муратову избежать отправки в фильтрационный лагерь, и он продолжил боевую службу, вернувшись за штурвал своего истребителя Як-7. Он сбил ещё четыре немецких самолёта лично и три в группе. В мае 1945 года Владимир Муратов получил второй орден Красного Знамени.
Командование лётной части, в которой служил лётчик-штурмовик Иван Клевцов, вообще сумело скрыть от вышестоящего начальства факт пребывания в плену своего боевого товарища. Иван Клевцов был посажен на штурмовик и повёл эскадрилью знакомым путём на штурмовку того самого аэродрома, откуда только что бежал. Через несколько дней, 14 августа 1944 года, Иван Клевцов был снова сбит. Две недели он пробирался к своим и 30 августа 1944 года, в тяжёлом состоянии, был подобран советскими бойцами и отправлен в госпиталь. Впоследствии он стал генералом, Героем Советского Союза.
Румынский капрал Пётр Бодэуц на положении военнопленного пробыл совсем недолго. Уже 23 августа 1944 года Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции и повернула оружие против Германии. Советское командование хотело отправить румынского капрала в его же воинскую часть, но тот стал умолять не отправлять его к своим. Поэтому его так и оставили авиамехаником в 427-м авиаполку, который к тому времени стал 151-м гвардейским. Основанием для такого решения стало заявление капрала о том, что он родом из Бессарабии, где у него много родственников, и где после войны он сам снова хочет жить.
Но, к сожалению, далеко не всем советским солдатам и офицерам, попавшим в плен, удавалось вырваться из немецкого ада. Многие советские военные летчики, штурманы и стрелки-радисты, сбитые над вражеской территорией, сгинули в фашистских концлагерях. Их судьбы до сих пор остаются неизвестными. Они приняли мученическую смерть, и некому было рассказать их родным и близким, где закончили они свой жизненный путь.
Вернулись из фашистского плена только 1.836.000, ещё 67.000 советских солдат и офицеров совершили побег. Теперь уже хорошо известно, что подавляющее большинство из них достойно вели себя в фашистской неволе, боролись, как могли, остались несломленными, несмотря ни на что.
Как сказал трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин: «По обстоятельствам боевой жизни на войне можно оказаться в плену, но не стать пленником. Для настоящего патриота плен — это только эпизод в его борьбе за свободу своей Родины».
— Зиновий Ройбу (Валерий Безрутченко)