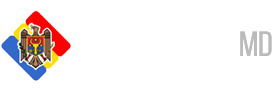Экономический и финансовый кризис, с которым государства мирового сообщества, в том числе и Республика Молдова, столкнулись в начале XXI века, является являются неотъемлемой частью капиталистического общества и регулярно повторяется в большей или меньшей степени из столетия в столетие.
Нынешний кризис несет в себе угрозу разрушения мировой экономической системы, провоцирует нарастание конфликтности в жизни общества, ведёт к общей дестабилизации, так как затрагивает сферу материального благополучия людей, ограничивая их возможности удовлетворять свои жизненные потребности. Происходит повсеместное ухудшение экономического состояния большинства государств – спад производства, нарушение производственных связей, банкротства, рост безработицы и, как следствие, усиливающееся снижение жизненного уровня и благосостояния населения.
В последнее время всё чаще появляются сравнения нынешних кризисных явлений, происходящих в мировой экономике, с Великой депрессией 30-х годов ХХ века, так как провоцирующая и генерирующая их экономика США, несмотря на бодрые заявления американских властей о том, что «страна процветает», переживает почти такой же резкий спад, как и в 1929 году, когда биржевой крах на Уолл-стрит привёл к катастрофическим последствиям: начался голод, стремительно выросла безработица, США накрыл «девятый вал» преступности.
А ведь всего за несколько дней до катастрофы на бирже ведущие американские банкиры и финансовые эксперты уверенно заявляли, что ситуация в экономике США не вызывает никаких опасений. Например, президент «Нэшнл сити бэнк» Чарльз Митчелл 15 октября 1929 года заявил, что «положение в американской промышленности отличное, рынки — в превосходном состоянии», а видный американский экономист Ирвинг Фишер уверял 17 октября 1929 года, что «в ближайшие месяцы рынок ценных бумаг в США значительно поднимется».
Но 21-го октября 1929 года «сверкнула молния», когда во время биржевой сессии было продано более 6 миллионов акций по снижающимся ценам, но публика скептически отнеслась к этому факту. А уже 24 октября 1929 года «грянул гром» — этот день вошел в историю. Курсы акций покатились вниз через час после открытия сессии, а к полудню продажа акций напоминала панику.
В этот день на Нью-Йоркской бирже было продано 12,8 млн. акции, то есть в 1,5 раза больше, чем когда-либо ранее. Через несколько дней, 29 октября 1929 года, был достигнут новый пик спекулятивного ажиотажа, когда из рук в руки перешли 16,4 млн. акции. Как следствие, курс ценных бумаг на нью-йоркской бирже стремительно покатился вниз. Если на 1 октября 1929 года стоимость акций, котировавшихся на Уолл-стрит, достигала 87 млрд. долларов, то всего лишь через месяц, к 1 ноября 1929 года, она упала до 55 млрд., или на 37%. Но это было только началом. Падение курса акций продолжалось почти безостановочно более трех лет. К марту 1933 года их общая стоимость составила лишь 19 млрд. долларов, то есть сократилась по сравнению с 1929 годом примерно в 4,5 раза.
Биржевой крах 1929 года был лишь одним из первых внешних проявлений глубочайших кризисных процессов, происходивших в экономике всего капиталистического мира. Уже с лета 1929 года в США стали сказываться признаки кризиса перепроизводства, который быстро охватил промышленность, сельское хозяйство, финансовую систему и другие отрасли экономики. Он вызвал огромные потрясения во всей хозяйственной жизни страны. Гигантская разрушительная сила экономического кризиса проявилась прежде всего в резком падении промышленного производства. По сравнению с докризисным уровнем 1929 года общий объем продукции американской промышленности составил: в 1930 году — 80,7%, в 1931 году — 68,1%, а в 1932 году — всего лишь 53,8%. Период с лета 1932 года до весны 1933 года стал временем наибольшего углубления кризиса. И только с весны 1933 года уровень промышленного производства США стал медленно повышаться, знаменуя собой начало перехода экономики из кризиса в длительную депрессию.
Самое сильное падение выпуска продукции в годы экономического кризиса имело место в отраслях тяжелой промышленности. Это объяснялось тем, что позиции монополий были там особенно прочными и сокращение производства явилось в их руках основным средством, с помощью которого они пытались не допустить чрезмерного падения цен и поддержать на высоком уровне свои прибыли. В результате добыча угля, например, снизилась в США за 1929—1932 гг. с 535 млн. до 310 млн. т, или на 42%, а выплавка стали упала за эти годы с 61,7 млн. до 15,1 млн. т, т. е. более чем в 4 раза. Летом 1932 года сталелитейная промышленность США была отброшена к уровню 1901 года, а выплавка чугуна снизилась даже до отметки 1896 года. Из 285 доменных печей, числившихся тогда в стране, действовали всего 46. По данным специального обследования, проведенного группой американских экономистов, промышленность США в случае полного использования наличного оборудования и рабочей силы за период кризиса могла дополнительно дать продукции на 287 млрд. долларов. Эта сумма почти в 3 раза превышала размеры валового национального продукта США в 1929 году.
Широчайшие размеры приобрели в годы кризиса разорение и банкротства промышленных, торговых и финансовых предприятий и фирм. По официальным данным, в 1929—1933 гг. произошло около 130 тысяч коммерческих банкротств. Кризис с огромной силой ударил и по банковской системе страны. За четыре года, с 1929 года по 1932 год, прекратили существование 5760 банков, т. е. пятая часть всех банков США, с общей суммой депозитов более чем в 3,5 млрд. долларов.
Невероятно тяжелы были социальные последствия кризиса. Национальный доход страны, составлявший в 1929 г. 86,8 млрд. долларов, упал в 1933 году до 40,3 млрд, то есть более чем вдвое. Удары кризиса ощутили даже монополистические объединения. Уже в 1931 году американские корпорации подвели свой баланс с потерей в 487 млн. долларов. В 1932 году эти потери увеличились до 3511 млн. долл. Это была подлинная катастрофа для бизнеса. Кризис не пощадил даже некоторых крупнейших монополистов. Самым ярким примером финансового банкротства тех лет стал происшедший весной 1932 года крах мультимиллионера Сэмюэля Инсулла. Крушение разветвленной системы держательских компаний, созданной Инсуллом в период «просперити», отчетливо показало рыхлость структуры многих корпораций.
Но как ни чувствительны были удары кризиса для буржуазных групп населения, они не шли ни в какое сравнение с теми бедствиями, которые принес экономический кризис рабочему классу и другим слоям трудящегося населения страны. Именно на них капиталисты переложили главную тяжесть катастрофического потрясения. Сильнейшее падение промышленного производства, закрытие десятков тысяч заводов, фабрик, шахт, огромная недогрузка производственного аппарата — все это привело к колоссальному росту безработицы. Армия безработных, весьма значительная и в период капиталистической стабилизации 20-х годов, возросла теперь во много раз. По данным правительственной статистики, в 1933 году в Соединенных Штатах насчитывалось 12.830 тысяч полностью безработных, а доля безработных в общей численности рабочей силы страны достигла 24,9%. Однако, по оценке Ассоциации по исследованию проблем труда, число безработных в США к началу 1933 года составило 16,9 млн. Это означало, что в период наибольшего обострения экономического кризиса каждый третий рабочий был лишен занятости. Очень широкое распространение получила частичная безработица. По данным АФТ, в 1932 году полностью занятыми оставались только 10% рабочих. По выражению одного из современников, в начале 30-х годов «безработица стала постоянной чертой американской жизни».
Массы безработных и членов их семей лишились в годы кризиса всяких средств к жизни. Отсутствие системы социального страхования в США не оставляло никаких надежд на помощь со стороны государства. После долгих месяцев бесплодных поисков работы и истощения всех сбережений, после лишения имущества и выселения за невзнос квартирной платы сотни тысяч трудящихся превращались в нищих и бездомных бродяг, скитавшихся по стране в поисках пропитания. Многие оказывались перед реальной угрозой голодной смерти. Только в Нью-Йорке в 1931 году было зарегистрировано около 20 тысяч случаев голодной смерти.
С самого начала кризиса, особенно со второй половины 1931 года, во всех отраслях промышленности проходило стремительное падение заработной платы. Даже по данным официальной статистики, среднегодовой заработок рабочего обрабатывающей промышленности сократился в 1933 году по сравнению с 1929 годом на 35% (с 1543 до 1086 долл.). За счет систематического снижения ставок и неполной занятости общий фонд заработной платы американских рабочих сократился за годы кризиса примерно на 60%. Это означало, что процесс абсолютного обнищания пролетариата, который приостановился было в период относительной капиталистической стабилизации, с наступлением экономического кризиса вновь возобновился и приобрел невиданные ранее размеры.
Не лучшим был и удел фермеров. Даже в наиболее благоприятные годы стабилизации широкие массы трудящегося фермерства оставались за бортом «просперити». Теперь же, с наступлением промышленного кризиса и новым, еще более сильным обострением кризиса перепроизводства в сельском хозяйстве, большинство из них оказалось на грани полного разорения. Цены на важнейшие продукты земледелия и животноводства упали в 1932 году в 2—3 раза по сравнению с 1929 годом. Соответственно денежные доходы фермеров сократились за эти годы с 11.312 млн. до 4.748 млн. долл,, или на 58%. В этих условиях для большинства фермеров стала крайне затруднительной регулярная уплата так называемых фиксированных издержек производства: земельной ренты, процентов по задолженности и налогов (в 1932 году они поглощали до 40% валового фермерского дохода). Все это привело к повальному разорению фермеров. За четыре года, с марта 1929 года по март 1933 года, были принудительно распроданы за неуплату долгов и налогов 897 тысяч фермерских хозяйств, то есть 14,3% их общего числа в стране. Разорившиеся фермеры либо оставались на прежнем месте в качество арендаторов и переходили к полунатуральному потребительскому хозяйству, либо, бросая хозяйство, вливались вместе с членами семей в огромную армию бродяг, скитавшихся в напрасных поисках работы.
Углубление промышленного и аграрного кризиса с осени 1931 года привело к наступлению нового этапа финансового кризиса. Наибольшей остроты он достиг в феврале-марте 1933 года, когда вся банковская система США пришла в полное расстройство. По стране прокатилась новая, еще более сильная волна банковских крахов. Миллионы мелких вкладчиков — рабочие, фермеры, представители средних слоев города, положение которых резко ухудшилось с первыми ударами кризиса, теряли свои последние сбережения и превращались в нищих.
Но самые тяжелые удары кризиса обрушились на негров. Негритянские гетто, которые к тому времени уже успели сформироваться в ряде крупных городов, превратились в скопища безработных, в очаги сплошной нищеты. В сельских районах Юга в начале 30-х годов массами сгонялись с земли негритянские кропперы-издольщики. Сотни тысяч негров пополнили многомиллионную армию безработных и бездомных. В стране резко усилился расизм, прошла новая волна физических, расправ над черными.
Соединенные Штаты Америки, в прошлом страна хваленого капиталистического процветания, стали страной, где властвовал кошмар голода, болезней, нищеты и пауперизма. Кризис 1929—1933 гг. потряс до основания не только социально-экономические основы американского капитализма. Он оказал громадное психологическое воздействие на миллионы американцев, вызвав кардинальные изменения в массовом сознании. Он решительно пошатнул культ бизнеса, который был создан за несколько десятилетий господства монополий и который стал чуть ли не символом веры рядового американца в период капиталистического «процветания» 20-х годов. Теперь массовая психология стала возлагать вину за разрушительное экономическое потрясение на тех самых «капитанов индустрии», которых еще недавно принято было обожествлять. Кризис воочию показал полнейшую несостоятельность идей всемогущества частнопредпринимательского индивидуализма и созидательной роли крупного бизнеса.
Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Для выхода из кризиса в 1933 году начал осуществляться «новый курс» президента-демократа Франклина Рузвельта — различные меры, направленные на регулирование экономики. Некоторые из них помогли устранить причины Великой депрессии, некоторые носили социальную направленность, помогая наиболее пострадавшим выжить, но некоторые другие меры усугубили положение. Почти сразу же после вступления в должность, в марте 1933 года, Рузвельту пришлось столкнуться с третьей волной банковской паники, на которую новый президент отреагировал закрытием банков на неделю и подготовкой за это время программы гарантирования вкладов.
После выкупа государством всего золота по твёрдой цене, опираясь на закон о золотом резерве, принятый в январе 1934 года, Рузвельт издал 31 января 1934 года прокламацию, которая сокращала золотое содержание доллара с 25,8 до 15 5/21 грана и устанавливала официальную цену золота на уровне 35 долларов за унцию. Иными словами, доллар был девальвирован на 41 %. Было составлено 557 основных и 189 дополнительных так называемых «кодексов честной конкуренции» в различных отраслях. Стороны гарантировали минимум зарплаты, а также единую зарплату для всех рабочих одной категории. Эти кодексы охватили 95 % всех промышленных рабочих. Такие кодексы сильно ограничивали конкуренцию.
Методы Рузвельта, однако, резко повышавшие роль правительства, рассматривались как покушение на Конституцию США. В 1935 году Верховный суд США постановил, что Национальная администрация восстановления и вводящий её закон (National Industrial Recovery Act, NIRA) неконституционны. Причина была в фактической отмене в этом акте многих антимонопольных законов и закреплении за профсоюзами монополии на наём работников.
Индекс промышленного производства США составил в 1939 году только 90 % уровня 1932 года. В 1939 году безработица все ещё оставалась на уровне 17 %. Главной причиной окончания Великой депрессии стала начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война — мобилизация мужчин резко сократила безработицу, а многочисленные оборонные заказы наполнили казну деньгами, за счёт чего ВВП США во время Второй мировой вырос в два с лишним раза. Американская экономика перешла на военное производство и так в этой стадии и осталась. По сегодняшний день именно оружие является главным американским продуктом на экспорт, поэтому США жизненно заинтересованы в вечной войне по всему миру, иначе новая Великая депрессия снова может повергнуть всю страну в катастрофу.
Зная о событиях, которые происходили в США и в мире в прошлом веке, невольно напрашиваются аналогии с сегодняшним мировым финансовым и экономическим кризисом. Можно с легкостью найти общее у Великой Депрессии и мирового финансового и экономического кризиса наших дней. Все опять началось в США, все опять началось с финансового сектора, а затем перекинулось на реальную экономику, фондовый рынок обрушился, потребительский спрос падает, безработица растет, деньги обесцениваются. «Великие процветающие США», на самом деле, по-прежнему остаются главным генератором мировых финансовых и экономических потрясений.
— Владимир Доронин