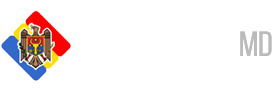Заключительным сражением Великой Отечественной войны советского народа с гитлеровским Третьим Рейхом и его союзниками 1941 – 1941 г.г. стала победоносная битва за Берлин, или Берлинская стратегическая наступательная операция, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года.
16 апреля 1945 года в 3.00 часа по местному времени началась авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. После её окончания были включены 143 прожектора, чтобы ослепить противника, и в атаку пошла советская пехота, поддержанная танками. Не встречая вначале сильного сопротивления, она продвинулась на 1,5-2 километра. Однако, чем дальше продвигались наши войска, тем сильнее нарастало сопротивление противника.
Началась Зеловско-Берлинская операция, или Сражение за Зееловские высоты (Schlacht um die Seelower Höhen) — операция советских войск, проведённая в рамках Берлинской наступательной операции и последующее сражение с немецкими войсками, оборонявшими Зееловские высоты — гряду высот на Северо-Германской низменности в 50—60 км восточнее Берлина, недалеко от нынешней границы с Польшей, проходящую по левому берегу старого русла реки Одер. Протяжённость Зееловских высот — до 20 км, ширина 4-10 км, превышение высот над долиной реки Одер 40—50 метров, крутизна склонов до 30—40°. Кропопролитное сражение за Зееловские высоты длилось три дня — с 16 по 19 апреля 1945 года.
Немецкое командование создало на 3ееловских высотах мощную вторую полосу обороны, которая имела сплошные траншеи, большое количество дзотов, пулемётных площадок, окопов для артиллерии и противотанковых средств, противотанковых и противопехотных заграждений. Перед высотами был вырыт противотанковый ров глубиной до 3 метров, шириной 3,5 метра, а подступы к высотам были заминированы и простреливались многослойным перекрёстным артиллерийским и ружейно-пулемётным огнем. Отдельные строения были превращены в опорные пункты. Оборонявшая 3ееловские высоты 9-я полевая армия Вермахта была усилена артиллерией Берлинской зоны ПВО. Бронетанковая техника и автотранспорт могли преодолевать склоны 3ееловских высот, главным образом, только вдоль шоссейных дорог, которые были заминированы и простреливались противотанковыми и зенитными (88-мм) орудиями.
Войска 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова, перейдя в наступление 16 апреля 1945 года и успешно преодолев первую полосу обороны, к исходу дня встретили ожесточённое сопротивление противника на 3ееловских высотах, куда немцы отошли с первой полосы и были усилены дивизиями из резерва Гитлера. Плотность немецкой артиллерии по обеим сторонам шоссе, идущего от Зелова на запад, была доведена до 200 орудий на 1 км фронта. Попытка командующего фронтом маршала Жукова ускорить продвижение войск вводом в сражение в первый же день наступления двух танковых армий не привела к желаемому результату. Подвижные соединения не смогли оторваться от пехоты и ввязались в изнурительные бои. Лишь к исходу 17 апреля 1945 года, после мощной артиллерийской и авиационной подготовки, оборона немцев на основных направлениях 3ееловских высот была прорвана войсками 8-й гвардейской Армии во взаимодействии с 1-й гвардейской танковой Армией.
После взятия многократно превосходящими врага советскими войсками Зееловских высот была окружена и уничтожена 9-я немецкая армия. Из всей 9-й армии с Зееловских высот в Берлин прорвались только остатки 56-го (LVI) танкового корпуса генерала Вейдлинга. 11-й корпус СС, бросив тяжёлое вооружение, поспешно двинулся на юго-запад с целью сдаться англо-американским союзникам, панцергренадёрские дивизии «Курмарк» и «Нидерланды», 303, 712 и 169-я пехотные дивизии, 502-й тяжёлый танковый батальон, оборонявшие Зееловские высоты, попали в окружение. Таким образом, операция Красной Армии на Зееловских высотах привела к уничтожению крупной немецкой группировки и не позволила противнику перебросить части своей 9-й армии в Берлин. Несомненно, что в случае пополнения Берлинского гарнизона за счёт 9-й армии, штурм Берлина стал бы намного более сложной и кровопролитной операцией.
Штурм столицы нацистского Третьего Рейха – города Берлина — 21 апреля — 2 мая 1945 года относится к уникальным событиям в мировой истории войн. Это было сражение за очень крупный европейский город с большим количеством прочных каменных зданий. Даже борьба за Сталинград уступает боям за Берлин по основным количественным и качественным показателям: численности вовлеченных в бои войск, количеству участвующей боевой техники, а также размерам города и характеру его застройки. В какой-то мере со штурмом Берлина сравним лишь штурм Будапешта в январе-феврале и Кенигсберга в апреле 1945 года.
На подготовку Берлина к обороне у немцев было 2,5 месяца, в течение которых фронт стоял на Одере, в 70 км от города. Эта подготовка отнюдь не носила характера какой—то импровизации. Немцы разработали целую систему превращения своих и чужих городов в «фестунги» — города-крепости. Это стратегия, которой придерживался Гитлер во второй половине войны. Города-«крепости» должны были обороняться в изоляции, снабжаемые по воздуху. Их цель — удержание узлов дорог и других важных пунктов.
Берлинские укрепления апреля-мая 1945-го достаточно типичны для немецких «фестунгов» — массивные баррикады, а также подготовленные для обороны жилые и административные постройки. Баррикады в Германии сооружались на промышленном уровне. Берлинские баррикады, как правило, имели 2−2,5 м в высоту и 2−2,2 м в толщину. Сооружались они из дерева, камня, иногда из рельс и фасонного железа. Подобная баррикада легко выдерживала выстрелы танковых пушек и даже дивизионной артиллерии калибром 76−122 мм.
Часть улиц в Берлине полностью перегородили баррикадами, не оставив даже проезда. По основным магистралям баррикады все же имели трехметровой ширины проезд, подготовленный к быстрому закрытию вагоном с землей, камнями и другими материалами. Подходы к баррикадам минировались. Нельзя сказать, что эти берлинские укрепления были шедевром инженерного искусства, так как в районе Бреслау советские войска сталкивались с поистине циклопическими баррикадами, целиком отлитыми из бетона. В их конструкции предусматривались огромные подвижные части, сбрасываемые поперек проезда. В Берлине же ничего подобного не встречалось. Причина достаточно проста: немецкие военачальники считали, что судьба города решится на Одерском фронте. Соответственно, основные усилия инженерных войск были сосредоточены именно там, на Зееловских высотах и на периметре советского Кюстринского плацдарма.
Подходы к мостам через каналы и выходы с мостов в Берлине также имели баррикады. В зданиях, которым предстояло стать опорными пунктами обороны, закладывали кирпичом оконные проемы. В кладке оставляли одну-две амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов — «фаустпатронов». Разумеется, не все берлинские дома претерпели такую перестройку. Но Рейхстаг, например, подготовили к обороне очень хорошо: все огромные окна здания германского парламента были замурованы.
Одной из «находок» немцев в обороне своей столицы стала танковая рота «Берлин», собранная из неспособных к самостоятельному передвижению танков. Их вкопали на перекрестках улиц и использовали как неподвижные огневые точки на западе и на востоке города. Всего в состав роты «Берлин» входило 10 танков «Пантера» и 12 танков Pz. IV. Кроме того, в обороне Берлина было задействовано свыше 200 тяжёлых танков «Пантера», «Тигр 1» и «Королевский Тигр».
Помимо специальных оборонительных сооружений в городе существовали также особые объекты ПВО, вполне пригодные для наземных сражений. Речь идёт о так называемых «Флактурм» — массивных бетонных башнях высотой около 40 метров, на крыше которых оборудовались установки зенитных орудий до 128-мм калибра, а внутри размещались госпиталь для раненых, убежище для женщин и детей, и защищающий башню гарнизон. В Берлине построили три таких гигантских сооружения. Это Flakturm I в районе зоопарка, Flakturm II во Фридрихсхайне на востоке города и Flakturm III в Гумбольтхайне на севере.
Однако, давно известно, что любые инженерные сооружения абсолютно бесполезны, если их некому оборонять. Это и стало для немцев самой большой проблемой, так как у них в Берлине имелось слишком мало пехоты. Число защитников столицы Третьего Рейха обычно оценивается в 200 000 человек. Для обороны Берлина такого количества защитников оказалось явно недостаточно. В сводке обобщенного боевого опыта штурмовавшей город 8-й гвардейской Армии указывалось: «Для обороны такого крупного города, как Берлин, окруженного со всех сторон, у немцев не было достаточно сил, чтобы оборонять каждое здание, как это имело место в других городах, поэтому противник оборонял, главным образом, группы кварталов, а внутри них отдельные здания и объекты».
Советские войска, штурмовавшие Берлин, насчитывали, по данным на 26 апреля 1945 года, 464 000 человек и около 1500 танков. В штурме города участвовали 1-я и 2-я гвардейские танковые Армии, 3-я и 5-я ударные Армии, 8-я гвардейская Армия (1-й Белорусский фронт), а также 3-я гвардейская танковая Армия и часть сил 28-й Армии (1-й Украинский фронт). В последние два дня штурма в боях участвовали также отдельные части 1-ой Армии Войска Польского.
Приятной неожиданностью для штурмовавших Берлин советских частей стал захват в целости многих мостов через реку Шпрее и Ландвер-канал. Учитывая, что берега реки Шпрее в центре Берлина одеты камнем, форсирование её вне мостов стало бы очень непростой задачей, связанной с большими потерями. В своих показаниях после сдачи в советский плен генерал Вейдлинг, комендат Берлина, вспоминал: «Ни один из мостов не был подготовлен к взрыву. Доктор Геббельс поручил это организации «Шпур», в связи с тем что при взрывах мостов воинскими частями причинялся хозяйственный ущерб окружающим владениям. Но оказалось, что все материалы для подготовки мостов к взрыву, а также заготовленные для этого боеприпасы, были ранее вывезены из Берлина при эвакуации учреждений «Шпур».
Необходимо отметить, что это касалось только мостов в центральной части города. На окраинах все обстояло иначе. Так, например, все мосты через канал Берлин-Шпандауэр-Шиффартс в северной части города были взорваны. Войскам 3-й ударной Армии и 2-й гвардейской танковой Армии пришлось наводить переправы. В целом можно отметить, что первые дни борьбы за Берлин были связаны с форсированием водных преград на его окраинах.
К 27 апреля 1945 года советские войска в основном преодолели районы с малоэтажной и разреженной застройкой и углубились в плотно застроенные центральные районы Берлина. Наступающие с разных направлений советские танковые и общевойсковые армии нацеливались на одну точку в центре города — Рейхстаг. Правда, Рейхстаг в 1945 году уже утратил своё прежнее политическое значение и имел условную ценность как военный объект. Однако, именно Рейхстаг фигурировал в приказах как цель наступления советских соединений и объединений. В любом случае, двигаясь с разных сторон к Рейхстагу, войска Красной Армии создавали угрозу «бункеру фюрера» под Рейхсканцелярией.
Центральной фигурой в уличных боях стала «штурмовая группа». Директивой маршала Георгия Жукова рекомендовалось включать в состав штурмовых отрядов 8−12 орудий калибром от 45 до 203 мм, 4−6 минометов 82−120 мм. В штурмовые группы входили также саперы и «химики» с дымовыми шашками и огнеметами. Танки тоже стали неизменными участниками этих групп.
Основным врагом танков в городских боях в 1945 году стало ручное противотанковое оружие — «фаустпатроны». Незадолго до Берлинской операции в советских войсках проводились эксперименты по экранированию танков. Однако положительного результата они не дали: даже при подрыве гранаты «фаустпатрона» на экране броня танка пробивалась. Тем не менее, в некоторых частях экраны все же устанавливались, скорее для психологической поддержки экипажа, чем для реальной защиты.
Потери танковых Армий в боях за город можно оценить как умеренные, особенно в сравнении с боями на открытой местности против танков и противотанковой артиллерии. Так, 2-я гвардейская танковая Армия маршала бронетанковых войск Семёна Богданова в боях за город потеряла от «фаустпатронов» около 70 танков. При этом она действовала в отрыве от общевойсковых армий, опираясь только на свою мотопехоту. Доля подбитых «фаустниками» танков в других армиях была меньше. Всего за время уличных боев в Берлине с 22 апреля по 2 мая армия Богданова потеряла безвозвратно 104 танка и САУ (16% численности парка боевых машин к началу операции). 1-я гвардейская танковая Армия маршала танковых войск Михаила Катукова за время уличных боев тоже потеряла безвозвратно 104 бронеединицы (15% боевых машин, находившихся в строю к началу операции). 3-я гвардейская танковая Армия маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко в самом Берлине с 23 апреля по 2 мая безвозвратно потеряла 99 танков и 15 САУ (23%). Общие потери Красной армии от фаустпатронов в Берлине можно оценить примерно в 250 танков и САУ из почти 1800, потерянных за всю Берлинскую операцию в целом. Поэтому говорить о том, что советские танковые армии были сожжены «фаустниками» в Берлине, нет никаких достоверных оснований.
Однако, массовое использование «фаустпатронов» существенно затруднило использование танков, и, если бы советские войска полагались только на бронетехнику, бои за Берлин стали бы намного более кровавыми. Надо отметить, что «фаустпатроны» применялись немцами не только против танков, но и против пехоты. Вынужденные идти впереди бронетехники, пехотинцы часто попадали под выстрелы «фаустников». Поэтому неоценимую помощь в штурме оказала ствольная и реактивная артиллерия. Специфика городских боев заставляла ставить дивизионную и приданную артиллерию на прямую наводку. Орудия на прямой наводке оказывались иногда эффективнее танков.
В отчете 44-ой гвардейской пушечной артиллерийской бригады по Берлинской операции указывалось: «Применение противником «панцерфаустов» привело к резкому росту потерь в танках — ограниченная видимость делает их легко уязвимыми. Орудия прямой наводки не страдают этим недостатком, их потери, в сравнении с танками, малы». Бригада потеряла в уличных боях всего два орудия, причём одно из них немцы поразили именно «фаустпатроном». На вооружении бригады состояли 152-мм пушки-гаубицы МЛ-20. Действия артиллеристов можно проиллюстрировать следующим примером. Бой за баррикаду на Саарланд-штрассе начался не слишком успешно. «Фаустники» подбили два танка ИС-2. Тогда орудие 44-й бригады было выставлено на прямую наводку в 180 м от укрепления. Выпустив 12 снарядов, артиллеристы пробили в баррикаде проход и уничтожили ее гарнизон. Орудия бригады применялись также для разрушения превращенных в опорные пункты зданий.
Берлинский гарнизон оборонял лишь некоторые здания. Если такой опорный пункт не удавалось взять штурмовой группой, его просто разрушала артиллерия прямой наводки. От одного опорного пункта к другому, штурмующие шли к Центру Берлина. На прямую наводку ставили даже «катюши»: для этого рамы крупнокалиберных реактивных снарядов М-31 устанавливали в домах на подоконниках и стреляли по строениям напротив. Оптимальной считалась дистанция в 100−150 м. Снаряд успевал разогнаться, проламывал стену и взрывался уже внутри здания. Это приводило к обрушению перегородок и перекрытий и, как следствие, к гибели немецкого гарнизона. На меньших дистанциях стена не пробивалась и дело ограничивалось трещинами на фасаде. Именно здесь кроется один из ответов на вопрос о том, почему к Рейхстагу первой вышла 3-я ударная Армия генерала Василия Кузнецова. Части этой армии проложили себе путь по берлинским улицам 150-ю выпущенными прямой наводкой снарядами М-31УК (улучшенной кучности). Другие армии также расстреляли по нескольку десятков снарядов М-31 с прямой наводки.
Еще одним «разрушителем зданий» в Берлине стала тяжелая артиллерия. Как указывалось в докладе о действиях артиллерии 1-го Белорусского фронта, «в боях за крепость Познань и в Берлинской операции, как в ходе самой операции, так и особенно в боях за город Берлин, артиллерия большой и особой мощности имела решающее значение». Всего в ходе штурма германской столицы на прямую наводку выставили 38 орудий большой мощности, то есть 203-мм гаубиц Б-4 образца 1931 года. Эти мощные орудия на гусеничном ходу часто мелькают в кинохронике, посвященной боям за германскую столицу. Действовали расчеты Б-4 смело, даже дерзко. Например, одно из орудий было установлено на перекрестке Линден-штрассе и Риттер-штрассе в 100−150 м от противника. Шести выпущенных снарядов хватило, чтобы разрушить подготовленный к обороне дом. Доворачивая орудие, командир батареи разрушил еще три каменных здания.
В Берлине нашлось только одно строение, выдержавшее удар Б-4, — это была зенитная башня ПВО Flakturm am Zoo, она же Flakturm I. В район Берлинского зоопарка вышли части 8-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой Армий. Башня оказалась для них крепким орешком. Обстрел ее 152-мм артиллерией был совершенно безрезультатным. Тогда по башне прямой наводкой выпустили 105 бетонобойных снарядов 203-мм калибра. В результате был частично развален угол башни, но она продолжала жить и оказывать огневое сопротивоения вплоть до самой капитуляции гарнизона. До последнего момента в ней располагался командный пункт генерала Вейдлинга. Башни ПВО в Гумбольтхайне и Фридрисхайне наши войска вообще обошли, поэтому до капитуляции эти сооружения оставались на контролируемой немцами территории города.
Гарнизону Flakturm am Zoo в какой-то мере повезло, так как башня не попала под огонь советской артиллерии особой мощности, 280-мм мортир Бр-5 и 305-мм гаубиц Бр-18 образца 1939 года. Эти орудия на прямую наводку не ставили, они вели огонь с позиций в 7−10 км от поля боя. 8-й гвардейской Армии был придан 34-й отдельный дивизион особой мощности. Его 280-мм мортиры в последние дни штурма Берлина били по Потсдамскому вокзалу. Два таких тяжёлых снаряда пробили асфальт улицы, перекрытия и взорвались в подземных залах вокзала, на глубине 15 метров.
Три дивизиона 280-мм и 305-мм орудий были сосредоточены в 5-й ударной Армии генерала Николая Берзарина, которая наступала справа от армии маршала Василия Чуйкова в историческом Центре Берлина. Тяжелые орудия использовались для разрушения наиболее прочных каменных зданий. Дивизион 280-мм мортир бил по зданию гестапо, выпустил более сотни снарядов и добился шести прямых попаданий. Дивизион 305-мм гаубиц только в предпоследний день штурма, 1 мая 1945 года, расстрелял 110 снарядов. По сути, только отсутствие точной информации о местоположении «бункера фюрера» мешало обстрелу его советской тяжёлой артиллерией и досрочному завершению боев.
Армия генерала Николая Берзарина, наступая в направлении Рейхстага, ближе всего подошла к бункеру Гитлера. Это вызвало последний всплеск активности германских Люфтваффе в боях за город. 29 апреля 1945 года большие группы немецких штурмовиков ФВ-190 и новейших реактивных истребителей-бомардировщиков Ме-262 атаковали боевые порядки войск 5-й ударной Армии. Реактивные «мессершмиты» принадлежали к I-ой группе эскадры JG7 из ПВО Третьего Рейха. Они нанесли атакующим советским частям большие потери в технике и личном составе, однако, решительно повлиять на ход боевых действий не смогли. На следующий день, 30 апреля 1945 года, нацистский фюрер Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством, а утром 2 мая 1945 года Берлинский гарнизон капитулировал.
Общие потери двух советских фронтов в битве за Берлин составили более 80 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести бойцов и командиров Красной Армии. Потери ээти, безусловно, были оправданы, так как падение Берлина и смерть Гитлера означали полную деморализацию всей германской армии и ускорили ее капитуляцию. Несомненно, что без активного использования разнообразной боевой техники, которой к тому времени в полной мере были обеспечены войска Красной Армии, потери в уличных боях оказались бы намного выше.
Перед штурмом Рейхстага Военный совет 3-й ударной Армии вручил своим дивизиям девять штурмовых Красных знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные же самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись и во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей — первыми прорваться в Рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.
Самыми первыми, в 22 часа 30 минут по московскому времени 30 апреля 1945 года, водрузили штурмовое Красное знамя на крыше Рейхстага на скульптурной фигуре «Богиня победы» артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Г.К. Загитов, А.Ф. Лисименко, А.П. Бобров и сержант А.П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, которой командовал капитан В.Н. Маков, Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана С.А. Неустроева. Через два—три часа, также на крыше Рейхстага, на скульптуре конного рыцаря — кайзера Вильгельма — по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Ф.М. Зинченко было установлено Красное Знамя № 5, которое затем прославилось как Знамя Победы. Красное Знамя № 5 водрузили разведчики сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А.П. Берест и автоматчики из роты старшего сержанта И.Я. Съянова. Бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая 1945 года.
1 мая 1945 года в 3.00 начальник германского Генерального штаба генерал пехоты Кребс в сопровождении начальника штаба LVI танкового корпуса полковника фон Дуфвинга прибыл в штаб 35-ой гвардейской дивизии, где их встретили зам.командующего армией генерал-лейтенант Духанов и начальник разведотдела штаба полковник Гладкий. Немцы передали советскому командованию датированное 30 апреля 1945 года «Обращение доктора Геббельса и Мартина Бормана к вождю советских народов Маршалу Сталину», в котором было сказано: «…сегодня, в 15 часов 30 минут самовольно ушёл из жизни фюрер. На основании его законного права, фюрер всю власть в оставленном им завещании передал Дёницу, мне и Борману. Я уполномочен Борманом установить связь с вождём советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс».
Советское командование, по указанию Иосифа Сталина, отклонило попытки немецкого командования начать переговоры о временном прекращении огня, потребовав полной и безоговорочной капитуляции Берлинского гарнизона. Войска 1-го Белорусского фронта овладели Бранденбургом, в Берлине очистили районы Шарлоттенбург, Шенеберг и 100 кварталов. После провала попытки переговоров со Сталиным, в Берлине покончили с собой Геббельс и его жена Магда, предварительно умертвив своих 6 детей. Сталин подтвердил категорическое требование безоговорочной капитуляции в Берлине. В 18 часов немцы его отклонили. В 18.30, в связи с отклонением капитуляции, по Берлинскому гарнизону был нанесен мощный огневой удар, после чего началась массовая сдача немцев в плен.
Около 9 часов вечера 1 мая 1945 года примерно 500 выживших военных из штаб-квартиры Гитлера, в основном эсэсовцы, выбрались наружу, двигаясь по подземным переходам со станции метро «Вильгельмплац», напротив Рейхсканцелярии, к станции «Фридрихштрассе», затем перешли реку Шпрее и просочились через позиции Красной Армии на север. Многим из них удалось бежать, но шедший с ними Мартин Борман был либо застрелен, либо принял яд, чтобы избежать пленения. Трупа его, однако, не нашли и судьба его до сих пор неизвестна.
2 мая 1945 года в 01.00 рации 1-го Белорусского фронта получили сообщение на русском языке: «Просим прекратить огонь. Высылаем парламентёров на Потсдамский мост». Немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина генерала Вейдлинга сообщил о готовности Берлинскогого гарнизона прекратить сопротивление. В 6.00 генерал Вейдлинг сдался в плен и через час подписал Приказ о капитуляции Берлинского гарнизона. Сопротивление врага в Берлине полностью прекратилось. Остатки гарнизона стали массово сдаваться в плен. В Берлине был взят в плен заместитель Геббельса по пропаганде и печати доктор Фриче, который на допросе показал, что Гитлер, Геббельс и начальник Генштаба генерал Кребс покончили жизнь самоубийством. К 21.00 в плен сдалось уже 70 тысяч немцев. Повсюду в Берлине были развернуты советские полевые кухни, из которых советские воины начали кормить голодных берлинцев.
4 мая 1945 года германское Верховное командование сдало свои войска подразделениям Монтгомери на северо-востоке Германии, в Дании и в Голландии. На следующий день группа армий «Г» Кессельринга, включавшая армии на севере от Альп, также капитулировала. 5 мая 1945 года адмирал Ганс фон Фридебург, новый командующий Германским военно-морским флотом, прибыл в штаб-квартиру Эйзенхауэра в Реймсе во Франции, чтобы провести переговоры о капитуляции. На следующий день приехал и генерал Йодль, надеясь так затянуть переговоры, чтобы сотни тысяч германских солдат и беженцев достаточно далеко ушли на запад и сдались западным союзникам, а не русским. Но Эйзенхауэр не захотел промедления, и в 2.41 утра 7 мая 1945 года Фриденбург и Йодль подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступал в силу в полночь 8 мая 1945 года. Со стороны командования экспедиционными силами союзников в Европе акт засвидетельствовал генерал Беддел Смит.
Генерал Эйзенхауэр предложил с советской стороны засвидетельствовать этот Акт генерал-майору И.А. Суслопарову, представителю Ставки ВГК Красной Армии при командовании союзников. Суслопаров сообщил об этом в Москву и запросил у Сталина инструкцию о порядке действий, но к моменту подписания Акта о капитуляции ответ из Москвы не поступил. Ситуация сложилась так, что на Акте вообще могло не быть подписи советского представителя, поэтому Суслопаров добился включения в него примечания о возможности — по требованию одного из государств-союзников — проведения нового подписания Акта, если для этого будут объективные причины. Только после этого он согласился поставить под актом свою подпись, хотя и понимал, что чрезвычайно рискует.
Уже после этого из Москвы пришел, наконец, запоздавший запрет Суслопарову участвовать в подписании этого Акта. Сталин настаивал на подписании Акта о капитулции Германии только в Берлине, причём потребовал значительного повышения уровня лиц, которые будут его подписывать. Организовать новое подписание Акта Сталин поручил маршалу Жукову. Примечание, которое было включено по требованию Суслопарова в подписанный документ, позволяло это сделать. Иногда второе подписание Акта называют ратификацией того, что был подписан днем ранее. Для этого есть законные основания, так как 7 мая 1945 года Г.К. Жуков получил официальное указание из Москвы: «Ставка Верховного Главнокомандования уполномачивает Вас ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил».
К решению вопроса о новом подписании Акта, но на более высоком уровне, подключился Сталин, обратившийся к Черчиллю и новому президенту США Трумэну: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции». В результате США и Англия согласились провести новое подписание Акта, а документ, подписанный в Реймсе, решили считать «предварительным протоколом» о капитуляции Германии».
При этом Черчилль и Трумэн отказались отложить объявление о подписании Акта на сутки, как того просил Сталин, мотивируя, что на советско-германском фронте всё ещё идут тяжелые бои, и поэтому надо подождать до вступления капитуляции в силу, то есть до 23 часов 8 мая 1945 года. В Англии и США о подписании Акта и капитуляции Германии перед западными союзниками было официально объявлено 8 мая, сделали это Черчилль и Трумэн лично, обратившись по Радио к народу. В СССР текст их обращений был опубликован в газетах, но по понятной причине только 10 мая 1945 года.
Подписание Акта завершилось в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени. В Москве было уже 9 мая 1945 года (0 часов 43 минуты). С немецкой стороны акт подписали Начальник штаба Верховного главнокомандования вооружёнными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Бодевин Йоханн Густав Кейтель, начальник генштаба Люфтваффе генерал-полковник авиации Ганс Юрген Штумпф и ставший после назначения Дёница рейхспрезидентом Германии главнокомандующим германским флотом генерал-адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.
Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер. В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). По согласованию между правительствами СССР, США и Великобритании, была достигнута договорённость считать процедуру в Реймсе предварительной. Тем не менее, в западной историографии подписание капитуляции германских вооружённых сил, как правило, связывается с процедурой в Реймсе, а подписание акта о капитуляции в Берлине именуется его «ратификацией»
Вскоре из радиоприемников по всей Советской стране зазвучал торжественный голос Юрия Левитана: «8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!».
По приказу Иосифа Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии 9 Мая было объявлено Днем Победы.
В честь этого выдающегося исторического события в Советском Союзе была учреждена Медаль «За взятие Берлина». На её лицевой стороне в центре надпись «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА», вверху над надписью пятиконечная звездочка, внизу по окружности полувенок из дубовых листьев. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком. На оборотной стороне медали дата взятия Берлина «2 мая 1945», под датой пятиконечная звездочка. Все надписи и изображения на медали выпуклые. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой красной шелковой муаровой лентой шириной 24 мм (посередине ленты пять полосок: три черные и две оранжевые, причём крайние черные полоски окаймлены узкими оранжевыми полосами).
Большая часть награждений медалью «За взятие Берлина» произошла непосредственно после окончания Великой Отечественной войны. Так, в период за 1945-1948 гг. медалью было награждено около 1.082.000 человек. Однако, некоторая часть солдат и офицеров, участвовавших в штурме Берлина, по различным причинам не смогла получить медаль в этот период. Всем этим лицам медали были вручены позднее.
Вероятно, одно из самых последних в истории награждений этой почетной медалью состоялось летом 2003 года. В российском Посольстве в Ереване (Армения) медаль вручили жителю Анатолию Зеленцову. Во время штурма Берлина гвардии старшина Зеленцов был ранен, попал в госпиталь и по каким-то причинам не получил заслуженную награду. Медаль нашла его лишь спустя 58 лет. Всего же медалью «За взятие Берлина» было произведено свыше 1.100.000 награждений.
— Зиновий Ройбу (Валерий Безрутченко)